|
|
Фундамент Древнерусской художественной культуры. Культ природы.
|
Культ природы определял мироощущение древних славян. Культ наивный, часто
глубоко поэтичный, рожденный непосредственной близостью человека к природе,
к земле.
Позаимствуем у крупнейшего знатока истоков русской художественной культуры
Б. А. Рыбакова, а также у таких авторитетов, как М. В. Алпатов и Б. Д.
Греков, некоторые описания и формулировки, которые помогут нам как-то охарактеризовать
духовные устремления наших предков.
Каждый лес, ручей, колодец, даже отдельное дерево представлялись древним
славянам одушевленными. Особенно привлекали их своей мощью старые, большие
деревья, раскидистые густолиственные дубы. Они чтили глубокие и быстрые реки:
недаром в более поздних сказаниях реки говорят с героями человеческим языком.
Они поклонялись огромным камням и горам: недаром судьба русских богатырей
ставилась в таинственную связь с каменными горами.
Боги славянского пантеона олицетворяли добрые и злые силы природы, богатство
ее и тайны: Перун — страшный бог грозы, самый главный из богов, Солнце — известное
под различными именами (Даждьбог, т. е. бог, подающий благо, Сварог
— от слова «свар» — жар и др.), Велес, или Волос, — благодетельный
бог скота, Мокошь — богиня ткачества и водной стихии.
Антропоморфизм, т. о. перенесение человеческих свойств на область нечеловеческую,
дабы приблизить ее к человеческому разумению, был издревле свойствен славянскому
образному мышлению. Образ великой богини тому яркое свидетельство.
Судьба этого образа поистине замечательна.
В 1921 г., на выставке русского народного искусства в Московском Историческом
музее, археолог В. А, Городцов был, как он пишет сам, «изумлен, встретив
в произведениях крестьянского искусства пережитки глубочайшей старины».
Так, в вышивках на полотенцах из северной России он обнаружил древнейшие сюжеты
и этим проложил совершенно новый путь, к изучению самой далекой отечественной
старины. Ведь, напри-мер, руками архангельских и вологодских вышивальщиц красными
и черными нитками на белом полотне был запечатлен культ великой богини
— богини земли, плодородия, матери всего земного. Этому не следует удивляться.
Утратив свое первоначальное значение, пережитки языческих культур славянских
земледельческих племен гнездились в глухих углах нашей страны еще в конце XIX
в., отражаясь в устном творчестве и в народном искусстве. И потому это искусство
часто является для нас «живой стариной», помогающей как-то заполнить
огромные пробелы в предыстории русского искусства, причина которых — скудность
сохранившихся памятников.
Итак, главной фигурой на узорных вышивках нашего Севера является женщина
и широкой юбке колоколом, с поднятыми руками. В представлении древних художников,
установивших канон изображения великой богини, оно неизменно сливалось с символами
жизни и плодородия, например, с деревом, цветами, солнцем и различными живыми
существами. То голова ее украшена венком из цветов или сияющими лучами,
то в руках она держит солнечные диски, то руки ее постепенно переходят в молодое
зеленеющее дерево или в туловище птицы. А по бокам ее — два всадника, над которыми
она властвует, держа за поводья их коней. Это — жрецы богини, ее служители,
а по мнению некоторых исследователей, тоже боги: сам Перун и Стрибог (бог ветров).
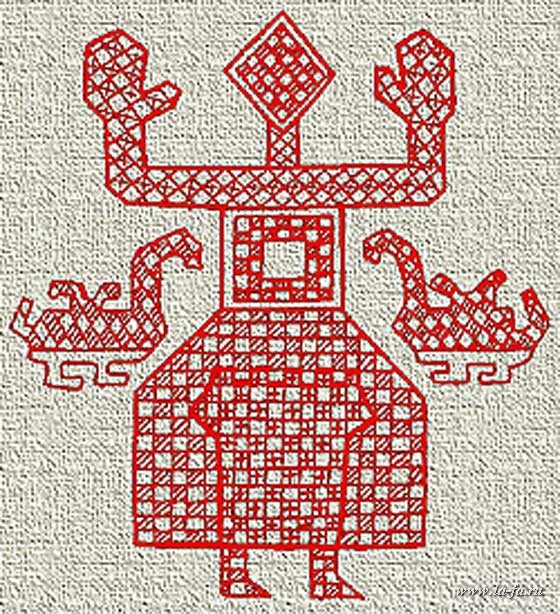
Северная вышивка с "великой богиней" XIX в.
И вот образ этот, который почитался не только славянами, но и многими другими
народами, образ женщины с поднятыми к небу (к солнцу!) руками, прообраз богородицы
Оранты, запившей столь исключительное место в восточнохристианском и, в
частности, в древнерусском искусстве, донесен почти до наших времен в народном
рукоделии.
Эта богиня называлась у древних славян Берегиней, т. е. землей. Житной Бабой,
Роженицей.
Древний культ природы, земли. Римский поэт Апулей вкладывал в уста великой
богини такие слова: «Я — природа, мать всего сущего, владычица стихий,
начало всех начал, высшее божество, царица теней».
«Мать сыра земля!» Вот именно ее сыновно чтили славяне в образе
женщины с вознесенными руками.
Близость к природе, к земле. Как не согласиться с предположением, что
насыпные курганы славянских погребений должны были производить впечатление
естественных холмов, выглядеть так, будто «мать сыра земля»
вздыбилась сама, чтобы умершие отождествились с этими холмами...
Близость к природе, поклонение ее силам естественно рождали у древнего
славянина стремление запечатлеть их в художественном творчестве. И все,
что было радостного, светлого в этом стремлении, роднило славянина с эллином.
Поиски красоты! Сама наружность наших предков, по-видимому, была красивой.
«Я видел русов, — говорит арабский путешественник Иби-Фадлан, — когда
они пришли со своими товарами и расположились на Волге. Я не видел людей более
совершенных по телосложению, — как будто это были пальмовые деревья».
И еще одно как-то роднило эллина со славянином.
Византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский, привыкший к константинопольским
самодержавным порядкам, отмечает, что «славяне и анты не управляются
одним человеком, но издревле живут в народоправстве и потому у них счастливые
и несчастливые дела решаются сообща». А другой осведомленный византийский
писатель Маврикий заявляет еще более категорично: «Племена славян и антов
ведут одинаковый образ жизни, у них одни нравы, любят свободу и не склонны
ни к рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, выносливы,
— легко переносят холод и жару, недостаток в одежде и пище... Взятые в плен
у них не обращаются навсегда в рабство, как у других народов... Юноши их очень
искусно владеют оружием».
Итак, свободолюбие, ратная доблесть и демократия, пусть и военная, но как
отмечают исследователи, уже достаточно развитая.
Живший за четыре века до Прокопия знаменитый римский историк Тацит вначале
было заколебался, куда ему отнести славян (венедов) — к отсталым варварам или
к народам, достигшим уже заметного культурного уровня. Когда же ближе присмотрелся
к славянам, решительно включил их в число оседлых европейских народов. «Они,
— пишет Тацит, — и дома строят, и щиты носят, и сражаются пешими. Все это
совершенно отлично от сарматов, живущих в кибитке и на лошади».
Но ни в гражданственности, ни тем более в общем мироощущении, конечно,
не поставить полного знака равенства между древним славянином и эллином.
Перенятый у скифов страшный обычай убивать при погребении вождей их
жен и наложниц издавна существовал и у славян (однако он не был обязательным
к исполнению, т.е. жены и наложницы шли на смерть без принуждения, добровольно,
в соответствии со своим вероубеждением. У славян вообще отсутствовали насильственные
человеческие жертвоприношения в любом из их видов, прим. авторов сайта). Нам
трудно представить себе, с какими чувствами шли на смерть обреченные. Быть может,
некоторые и впрямь верили, что такова воля богов и их ожидает за гробом
награда. Од-нако свидетель славянского погребения другой арабский путешественник
Ибн-Даста заметил жуткую нерешительность одной девушки, видимо, не желавшей
отдать свою юную жизнь во исполнение бесчеловечного обряда.
В отличие от эллинов, культ природы не освобождал древних славян от
страха перед природой, извечного страха перед ее таинственными и непреоборимыми
силами, которые для всех культур, предшествовавших греческой, олицетворялись
в зверином образе.
Древний славянин не проникся верой, так ярко выраженной в знаменитом изречении
Софокла: «Много в природе дивных сил, но сильней человека нет».
И потому быт и искусство наших далеких предков отражают одновременно
любовь к природе, ощущение красоты окружающего мира и страх перед природой,
силам которой они противопоставляли не раскрепощенную человеческую личность,
а заговоры, заклинания, сугубо магическую обрядность.
Тут же, однако, добавим, что и в страхе своем они, видимо, не ощущали себя
беспомощными, обреченными. Слишком тесным и непосредственным, можно сказать,
интимным было их общение с природой, чтобы они могли допустить ее неумолимость,
горестное признание которой наложило свою печать на многие другие древние цивилизации.
«Судьбы они не знают, — пишет про антов тот же Прокопий, — и вообще не
признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им, охваченным
ли болезнью, или попавшим на войне в опасное положение, вот-вот грозит смерть,
то они дают обещание — в случае если спасутся, тотчас же принести богу жертву
за свою душу, и, избегнув смерти, приносят в жертву то, что обещали, и думают,
что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают и реки, и нимф, и всякие
другие божества, приносят жертвы всем и при помощи этих жертв производят гадания».
Мироощущение древних славян и вытекающая из него обрядность ярко обрисованы
Б. А. Рыбаковым:
«Древнему славянину казалось, что каждый дом в деревне находится...
под покровительством духа, приглядывавшего за скотиной, оберегавшего огонь в
очаге и по ночам выходившего из-под печки полакомиться приношением, оставленным
ему заботливой хозяйкой. В каждом овине, в таинственном свете подземного огнища,
обитали души умерших предков. Каждое живое существо, соприкасавшееся с человеком,
было наделено особыми чертами. Петух, с изумительной точностью отмечающий
часы и встречающий зарю своим пением, признавался вещей птицей: ни одно
жертвоприношение не обходилось без заклания петуха; редкая сказка о животных
не упоминала о «петушке» ...Утки и гуси символизировали воду...
Бык, взрыхляющий пашню ралом, был олицетворением плодородия. В честь бога
Тура (дикого быка) устраивались весенние праздники молодежи. Конь, это гордое,
стремительное животное, зачастую сливавшееся в представлении древнего славянина
то с богом солнца, то с образом конного воина, был излюбленным мотивом древнего
искусства. Лесные звери представлялись какими-то оборотнями, в большинстве
своем враждебными человеку. Волками оборачивались колдуны… Крупнейший хищник
наших лесов – медведь особенно почитался. Глиняные изображения медвежьих лап
клали в могилы, медвежьи клыки носили в ожерельях… Помимо зверей, лесная чаща
казалась наполненной бесчисленными враждебными духами. В каждом болотце жил
багник (от «багно» - болото), в каждой реке – водяной, в лесах –
лешие, а в глубине непроходимой пущи – огромный «пущевик», с руками,
как сучья, и с зелеными волосами. Десятками заговоров... пытался пахарь-славянин
отгородиться от враждебной лесной стихии. Искусство приходило ему на помощь
создавая амулеты, предназначенные оберегать человека от духов леса... Смена
времен года и смена сельскохозяйственных сезонов сопровождались торжественными
празднествами. В декабре славяне встречали сурового бога зимы Коляду...

Литая серебрянная фигурка из клада VI в. в селе Мартыновке на Киевщине.
Весной начинался радостный цикл праздников солнца. На масленицу пекли блины
— символ солнца, провожали соломенное чучело божества зимы, сжигали его
за пределами села, а иногда одновременно зажигали просмоленное колесо на высоком
шесте — еще один символ солнца. Огненное колесо на повозке, запряженной
двумя конями — спутниками солнца, прочно вошло и в изобразительное искусство...
На масленицу, помимо обрядовых плясок, проводились военные игры молодежи
— кулачные бои. Прилет птиц ознаменовывался обрядовым печением — хозяйки
пекли из теста изображения жаворонков... Встреча лета происходила в русальную
неделю. В эту неделю заключались браки, пелись песни в честь Лады и Леля — покровителей
любви.
О своих богах славяне слагали мифологические сказанья и легенды. Так, например,
Сварог научил людей ковать металл... Этот миф напоминает греческий миф о Прометее,
похитившем с неба огонь для людей... Существовали легенды о героях-змееборцах,
побеждавших огромных драконов и впрягавших этих чудовищ в плуг...
Когда на Руси появилось христьянство, оно встретилось с такой устойчивой,
веками складывавшейся земледельческой религией, с такими прочными языческими
верованиями, что вынуждено было приспособиться к ним, подменить Волоса – Власием,
Перуна – Ильей, Мокошь – Пятницей – Параскевой, молчаливо признать масленицу
и другие языческие календарные праздники».
|