|
|
Киевская держава. Софийский собор и Михайловские мозаики.
|
Дополним уже сказанное об архитектуре киевского храма св. Софии. В XVII и
XVIII вв. этот знаменитый собор был настолько видоизменен всевозможными переделками
и при-стройками (в стиле барокко), что сейчас трудно точно представить
себе его первоначальный облик. И все же ясно, что своим многоглавием. открытыми
галереями, постепенным ступенчатым нарастанием, всем своим плавным и в
то же время трепетным ритмом киевский храм вносил коррективы в строгую
монолитность, категоричность византийского зодчества. Киевская София не возносилась
победно над землей, а можно сказать, непринужденно выстраивалась по земле: она
была не только величественной, но и живописной, гармонично разросшейся
и вширь, и в длину, и ввысь. Могучая динамичность сочеталась в ней с декоративностью.
Храм не был побелен, как ныне, а кирпич, из которого он был весь выложен,
чередовался с розовой цемянкой, что придавало его стенам радующую глаз
нарядность. Вследствие всего этого он общим обликом, внушительным и торжественным,
но не замкнутым в своей массе, меньше походил на твердыню, чем константинопольская
София, и не производил впечатления неразрывного целого.
Так, самим своим содержанием традиции древнерусского деревянного зодчества,
выражавшие художественные устремления русской народной души, взрывали жесткий
византийский канон. И хотя мы усматриваем тут перекличку с зодчеством кавказских
и балканских стран, такая грандиозная парадность в сочетании с общей гармоничной
размеренностью сложнейшей архитектурной композиции была, вероятно, достигнута
только в Киевской державе.
Из соседнего, столь же пышного и величественного княжеского терема можно
было попасть прямо на хоры этого храма утверждавшего в сознании закономерность
и крепость социальной иерархии, стройно отображавшей иерархию небедных
сил. Каким контрастом с окрестными полуземлянками сиял этот храм и какое
подлинно сказочное видение открывалось их обитателям под его сводами!
Двенадцать мощных крестообразных столбов расчленяют огромное внутреннее пространство
Софии киевской. Как и снаружи, динамичность чередования все новых живописных
перспектив определила замысел ее интерьера.
Под главным куполом, в залитом светом пространстве, произносились проповеди
и совершались торжественные государственные церемонии, а в самом алтаре
собиралось высшее духовенство. Наверху, на хорах, появлялись земные владыки:
князь и его приближенные. Внизу же, там, где свет переходил в полумрак, толпился
народ.
Этот народ видел те же, что и мы сейчас, но в полном блеске, без каких-либо
разрушений сверкающие золотом мозаики с сине-голубыми, сиреневыми, зелеными
и пурпурными пе-реливами, мозаики, как бы расплывающиеся по стенам, словно
маревом все обволакивая кругом своим то затухающим, то вспыхивающим с новой
силой сиянием. Шедевр «мерцающей живописи»!
Над головою молящихся в главном куполе — Христос Вседержитель — Пантократор,
в простенках — вереницы святых, словно парящих в воздухе, а в центральной
абсиде — богоматерь с воздетыми к небу руками — Оранта.
Народу, стоящему в благоговении или коленопреклоненному на мозаичном
полу, преподносился спектакль, вероятно, не менее великолепный, чем в константинопольской
Софии. Спектакль, в котором раздавались торжественные возгласы священнослужителей,
слышалось возвышенное церковное пение, сверкали золотом и драгоценными
каменьями храмовая утварь и роскошные облачения клира, дымились благовониями
паникадила, как пожар, горели несчетные свечи, озаряя иконописные лики подвижников
новой веры и жаром своим воспламеняя искрящуюся отовсюду мозаику.
Как и в Царьграде – во славу бога и его святых, благословляющих власть государя
и его вельмож.
И все же, как мы увидим не раз, сквозь эту насаждаемую сверху религиозную
догму, сквозь так же насаждаемое сверху искусство с его жестким каноном уже
в те времена упрямо пробивалось народное мироощущение с его выработанными самой
жизнью критериями добра и зла, да идущими из языческой старины навыками и представлениями.
В истории византийского искусства знаменитые мозаики киевской Софии фигурируют
как уникальный по своему значению памятник эпохи Македонской династии,
памятник, в значительной части созданный константинопольскими мастерами:
им мы обязаны такими шедеврами, как островыразительные образы «Святительского
чина» в абсиде, в которых живы традиции эллинистической портретной живописи.
В истории древнерусского искусства эти мозаики важны нам как свидетельство
мощи и роскоши Киевской державы, ее стремления ни в чем не уступать Царьграду,
как грандиозный живописный цикл, над созданием которого, вместе с греческими
художниками, поработали и их русские ученики, как великолепный образец византийской
художественной системы, созданный на Руси и для русских, системы облюбованной,
а затем и переработанной русскими людьми, нашедшими в ней стройную основу для
воплощения в искусстве своих собственных чаяний и грез.
Огромная Оранта несколько тяжеловесна. Но, когда под лучами света, падающими
на ее золотой фон, сверкает и пламенеет каждый кубик смальты, она производит
подлинно неизгладимое впечатление, торжественно выступая над нами со своими
широко раскрытыми глазами, вся обрамленная жарким сиянием.

Богоматерь Оранта. Мозаика Софийского собора в Киеве XI в.
Опускаясь перед ней на колени, русский человек узнавал в ее образе родную
ему великую языческую Берегиню с руками, поднятыми к солнцу. Но, преображенная
новым дивным искусством, она уже представлялась ему не только «матерью
всего сущего», но и заступницей, всей своей мощью ограждающей его
страну от бесчисленных врагов, и потому в годы испытаний он прозвал ее «нерушимой
стеной».
И, надо думать, русского человека привлекали спокойная твердость духа, уверенная
сила, которыми дышали величавые образы отцов церкви в «Святительском чине»
(ну, хотя бы особенно разительный — Григория Нисского) как пример всегдашней
готовности постоять за правое дело.
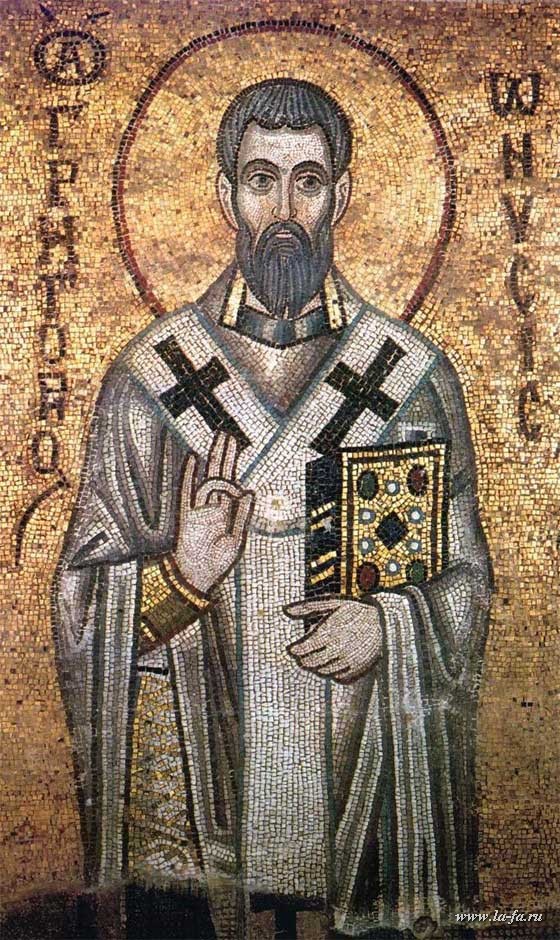
Григорий Нисский из "Святительского чина". Мозаика нижней части абсиды Софийского собора в Киеве XI в.
И в то же время, — подчеркнем это вновь, — как и архитектура храма,
все его живописное убранство внушало молящимся, что государство должно
покоиться на авторитете верховной власти, столь же незыблемой, как власть
самого Вседержителя, царящего высоко в куполе, в окружении архангелов
(роскошно облаченных, наподобие телохранителей византийского императора),
которых греческий богослов назвал «небесными чиновниками, блюдущими страны,
земли и языки».
Так небесное и земное крепко переплетались в высшей славе и навеки утвержденном
владычестве... Ибо, кроме «мерцающей живописи», храм был украшен
живописью обычной — фресками, прославляющими самодержавную царскую власть.
Фрески эти были в XIX в. варварски записаны масляными красками, причем произведенная
«реставрация», видимо, исказила ряд образов. Систематическая
расчистка фресок началась только в наше время (в 30-х годах); многое оказалось
безвозвратно утраченным.
В тематику фресок входят и евангельские сцены, и... игры на константинопольском
гипподроме. Последние, правда, изображены на лестничных башнях, ведущих
на хоры.
Мы уже говорили о роли гипподрома в жизни византийской столицы. Император
там появлялся перед народом во всем величии своей власти. На фресках киевского
собора мы видим византийского императора, видим и колесницы, музыкантов, скоморохов
в колпаках, ряженых, травлю медведей, волков, кабанов. Все это очень интересно,
подчас живо подмечено, хотя по своим художественным достоинствам фрески
и уступают мозаикам.
Изображение владыки империи ромеев тут, очевидно, служило прославлению
владыки империи Киевской. Портрет Ярослава в росписи не сохранился, но мы распознаем
жену его и, вероятно, трех дочерей, стройно выступающих в ряд со свечами в руках.
Участие русских мастеров в этой фресковой росписи и их воздействие на заезжих
учителей более чем вероятны. Об этом свидетельствуют некоторые чуждые Византии
жизнерадостные, жизнеутверждающие мотивы в евангельских сценах румяные, большеглазые
женские лица, крепкие, приземистые фигуры, а в сценах гипподрома — звери наших
лесов и даже чисто русские приемы охоты.
Мозаики Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве были созданы позднее
софийских, уже при Святополке, когда Киевская держава переживала тревожные времена
из-за необратимости феодального дробления, бесконечных княжеских усобиц,
эксплуатации народа и постоянной борьбы со степью.
Подобно софийским, михайловские мозаики принадлежат одновременно византийскому
искусству и древнерусскому. Авторитетнейшие представители искусствоведческой
науки склонны признать в них еще большее участие русских художников. В
фигурах и взорах Михайловских апостолов все чаще исчезает византийская суровость,
линии стали более округлыми и черты лица приобрели не свойственную византийским
образцам мягкость. Глубоко человечен евангелист Марк, сколько же тепла и внимания
в его взгляде!
Не менее знаменательно наличие в Михайловском храме наряду с греческими старославянских
надписей.
Михайловский храм был разобран в 1934—1935 гт. в связи с реконструкцией
города. Снятые с его стен драгоценные мозаики и фрески ныне (за несколькими
исключениями, о которых речь ниже) выставлены в приделе второго этажа Софии
киевской, ставшей, таким образом, одной из крупнейших в мире сокровищниц средневекового
монументального изобразительного искусства.
Быть может, совершеннейшим Михайловским мозаическим образом как по изысканной
красочной гамме, так и по ясности и изяществу композиции нам дано любоваться
в Моск-ве, в Третьяковской галерее, куда мозаика была передана из Киева. Это
— Дмитрий Солунский, один из «святых воинов», прославляемых церковью,
патрон отца Святополка — великого князя Изяслава.
Храм Архангела Михаила был заложен в честь победы над половцами, про которых
Владимир Мономах так говорил Святополку: «Выедет смерд в поле пахать на
лошади и приедет половчин, ударит смерда стрелою и возьмет его лошадь,
потом приедет в село, заберет его жену, детей и все его имущество».
Естественно, образ воина, бесстрашного ратоборца, побеждающего супостатов,
был особенно дорог в ту пору русским людям. И вот такой воин, с копьем и щитом,
стройный, прекрасный, с удивительно живыми чертами волевого лица, предстает
перед нами на сверкающем золотом фоне, с которым лучисто перекликается
золото кольчуги.
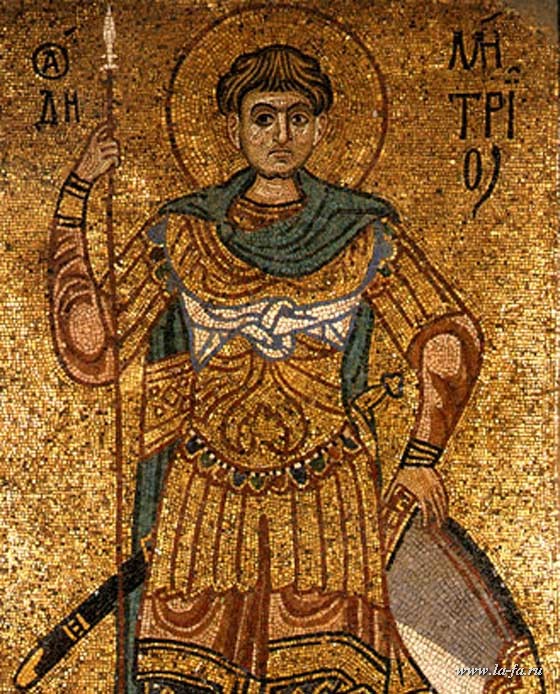
Дмитрий Солунский. Мозаика Михайловского монастыря в Киеве. Начало XII в.
Да, византийская художественная система славит иерархию высших сил,
небесных и земных. Но образ Дмитрия Солунского — это уже эпос русского народа,
в ратной славе утверждающий его национальное самосознание.
Чисто русское народное начало особенно явственно в михайловских фресках,
возможно, полностью исполненных русскими мастерами. Вот, например, величественный
св. Никола (на фреске, переданной Эрмитажу). Мы узнаем в его одухотворенных
чертах, лишенных какой бы то ни было резкости, в проникновенности его доброго
и мудрого взгляда, в благородной статности всей его фигуры некий идеал
красоты, взлелеяный в глубинах русской души. В его художественном воплощении
есть нечто и от классической античной традиции.
Кто знает, быть может, в живописном убранстве Михаиловского храма принимал
участие знаменитый Алимпий. Эту возможность допускал такой крупнейший византинист
и исто-рик древнерусского искусства, как Д. В. Айналов.
Алимпий! Увы, это для нас только имя. Мы ничего не знаем о его индивидуальной
живописной манере, о его творческом развитии. Но это имя очень славное и очень
для нас дорогое: первое в истории великой русской живописи. Ибо это первый русский
живописец, упоминаемый в наших летописях.
Алимпий вышел из Киево-Печерского монастыря, учился у греческих мозаичистов.
Летописное сказание монастыря, на которое ссылается В. Н. Лазарев, содержит
его жизнеописание, испещренное самыми фантастическими подробностями, но свидетельствующее
о глубоком уважении, которым искусство живописи пользовалось в Киевской Руси.
Так вот мы читаем, что, когда «гречестии писци из Цариграда»
украшали алтарь Успенского собора Печерского монастыря, Алимпий «помогаа
им и учася». При этом случилось «чудо»: образ богородицы «сам
вообразися» и «просветися паче солнца», из уст богородицы
выпорхнул белый голубь, облетел весь храм и скрылся. Пораженный Алимпий
постригся в монахи, усердно продолжая заниматься своим искусством: «иконы
писать хитр бе зело». За многую добродетель, выражавшуюся в «смирении,
терпении, чистоте, посте, любви богомышлении» и «низлобии сердца»,
игумен поставил Алимпия священником. И проводил Алимпий ночи «на пение
и на молитву упражняшеся», а днем писал неустанно новые иконы и подновлял
старые, обветшавшие, не ради корысти, а из чистой любви к своему искусству.
Свой заработок Алимпий делил на три части: на одну покупал все, что нужно
для иконописания, другую отдавал бедным, а третью - в монастырь.
Так он трудился в поте лица, «не дадяще себе покоа во вся дьни».
Незадолго до его кончины ему была заказана к празднику успения икона богородицы.
Пришел заказчик накануне праздника и увидел, что икона еще не написана, а иконописец
тяжело болен, и – удалился огорченный. Тогда-то в монашескую келью Алимпия
явился «некто, юноша светел» и начал писать икону; через три часа
работа была закончена, чудесный иконописец забрал ее с собой и водворил на предназначенное
для нее место. Там ее и нашел заказчик; он прибежал к игумену и рассказал
ему о случившемся. Придя в келью к Алимпию, игумен нашел его умирающим.
Так в Древней Руси искусство почиталось священнодействием: заменить
умирающего великого живописца мог только посланец небесных сил...
То, что Алимпий был монахом Печерского монастыря, имеет существенное
значение. Этот монастырь возглавлял борьбу против греческого духовенства, ратовал
за обрусение хрис-тианского вероучения. Связанный со «Святой горой»
(Афоном), где греки, русские и южные славяне вступали в живое культурное
общение, Печерский монастырь содействовал обогащению русской художественной
культуры не только константинопольскими, но и сербскими и болгарскими влияниями.
Вырабатывая собственный художественный язык, Русь обращалась, таким образом,
к различным источникам. А Печерский монастырь был одним из тех центров,
где происходила кристаллизация заимствований вместе с их подчинением единому,
упорно утверждающему свою самобытность потоку.
С закатом Киевской державы навсегда померкло в Древней Руси и искусство
«мерцающей живописи». Слишком дорогостоящей роскошью оказалась
мозаика для удельных князей.
Но дело не только в этом.
Как указывает В. Н. Лазарев, существовала еще одна более глубокая причина
вытеснения мозаики фреской. Коренилась она в новых эстетических установках
русских художников. «Фреска подкупала их не только своей более гибкой
техникой, но и более плотной и определенной палитрой, никак не связанной
имеющимся под рукой набором мозаических кубиков. Тем самым фреска допускала
более реалистические решения. Именно ей на Руси принадлежало будущее».
Оно не заставило себя ждать. В фресках Кирилловского монастыря в Киеве (последняя
треть XII в.) «в лицах святых, с большими глазами, окладистыми бородами
и выражением внутренней силы, есть уже неповторимо русский отпечаток».
Неповторимо русский отпечаток! И важно то, что этот отпечаток постепенно
проявлялся все явственнее, все убедительнее не только, например, в облике
изображенных фигур, а в самом стиле художественного произведения, определяемом
всем его внутренним содержанием.
|