|
|
Господин Великий Новгород. «Молодший брат»
|
Сравнивая Новгород с его «молодшим братом», вольным городом Псковом,
где тоже было вече, Ключевский писал, что новгородский политический порядок
можно назвать «поддельной, фиктивной демократией», а псковский
— «смягченной, умеренной аристократией». В самом деле, как сказано
в его классическом «Курсе русской истории», «ограниченное
пространство Псковской земли не давало такого простора для расцвета
крупного боярского землевладения, какой открывался для того в беспредельной
Новгородской области. Потому политическая сила псковского боярства не находила
достаточной опоры в его экономическом положении, и это сдерживало политические
притязания правительственного класса. В связи с тем не заметно ни резкого сословного
неравенства, ни хронической социальной розни, как в Новгороде». Притязания
новгородской боярской верхушки доходили до того, что она изменила делу русского
единства в XV в., вступила в сговор с Литвой и рассчитывала на поражение Москвы
в ее спасительной для Руси борьбе с ханами, действуя наперекор демократическим
слоям города, поддержавшим московского великого князя.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове. XII в.
Псковское боярство было в своих притязаниях скромнее, и потому жизнь Пскова
отмечена не только большим демократизмом, но и большим спокойствием, большей
внутренней умиротворенностью. Однако — только внутренней. Псков ведь был
западным рубежом Русской земли, передним краем ее обороны. ...Многострадальная
Псковщина была обильно полита кровью, своей и вражеской.
Все это наложило свою печать на быт псковитян, на общее их мироощущение,
следовательно, и на их искусство.
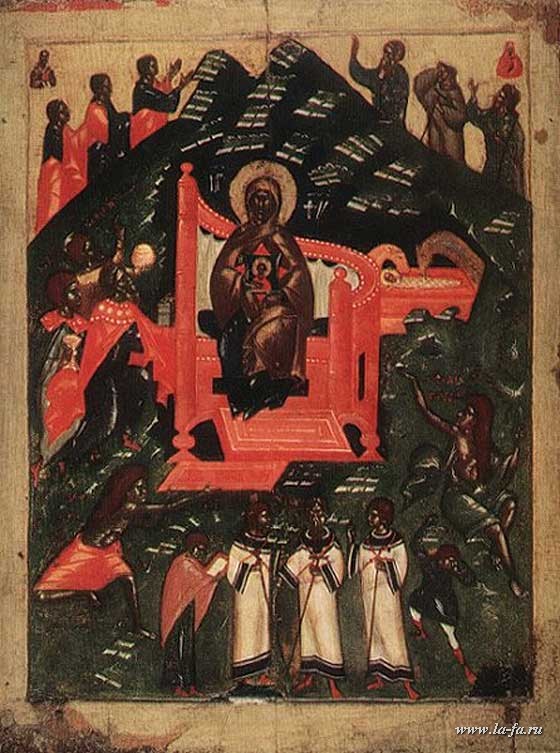
Собор богоматери. Псковская икона. XIV в.
На протяжении веков, обороняясь подчас без помощи Новгорода от грозных
ливонских рыцарей и от Литвы, Псков все шире и шире опоясывался мощными укреплениями.
«Этот город так обширен, — пишет немецкий автор XIII в., — что его
окружность обнимает пространство многих городов, и в Германии нет города,
равного Пскову». Но и далеко за пределами псковских городских укреплений
воздвигались такие грозные твердыни, как славный Псково-Печерский монастырь,
или же как Изборск, у башен которого с поэтическими именами «Темнушка»,
«Рябиновка» не раз разбивались удары ливонского ордена.
Если не считать самых ранних псковских церквей, как, например, знаменитый
Спасо-Преображенский собор (XII в.) Мирожского монастыря, все псковское зодчество
питалось достижениями крепостного строительства. Строя быстро, ибо время не
ждало, строя прочно, ибо дело шло о защите родных очагов, псковские зодчие —
мастера военно-инженерного дела - из нетесаных плит широко распространенного
на Псковщине известняка воздвигали неприступные стены, величавая крепость
которых восхищает нас по сей день. В этом строительстве они приобрели исключительную
сноровку, прославившую их на всю Русь — ведь сама Москва впоследствии обращалась
к их опыту.
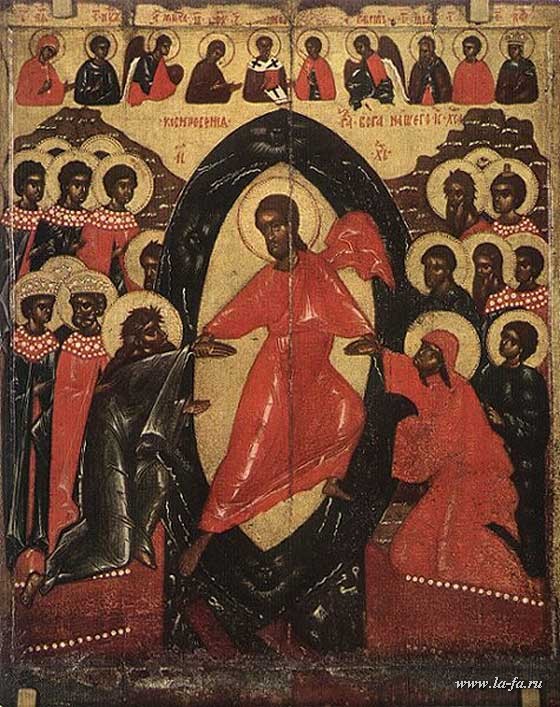
Сшествие во ад. Псковская икона. XIV в.
Небольшие по размерам кубические, несколько приземистые гладкостенные
псковские храмы, нередко воздвигнутые по заказу ремесленников и мелких торговцев,
отмечены той же лаконичной суровостью, той же внутренней крепостью, что и псковские
оборонительные сооружения. Часто — и это явилось новшеством в древнерусской
архитектуре — на храмовых стенах сооружались очень живописного вида звонницы,
с которых велось наблюдение за продвижением врага и чьи колокола не раз возвещали
тревогу. Как и Новгород с его владениями, Псков и вся Псковщина благодаря своим
памятникам архитектуры (многие из которых были разрушены фашистами и ныне восстановлены
в первоначальном виде — без позднейших пристроек) и монументальным росписям
соборов монастырей Мирожского и Снетогорского являют нам богатейшую панораму
средневекового искусства.
Непосредственное народное начало очень явственно во всем псковском искусстве.
Тревога и драматическая напряженность, которые сквозят в псковской иконописи,
весьма самобытной по краскам и общему настроению, не отражают ли как раз тех чувств, что должны были испытывать псковитяне перед лицом постоянной
вражеской угрозы?

Крепость в Изборске.
В отличие от новгородских икон, не пламенная киноварь, а плотный, густо насыщенный
зеленый цвет, воскрешавший безбрежную зелень необъятных лугов Псковской земли,
был любимым цветом ее живописцев. А напряженность и беспокойство явно выступают
в общем колорите и нервной подвижности отдельных фигур псковских икон.
Особенно характерны в этом отношении иконы XIV в. «Собор богоматери»
(в Третьяковской галерее) и «Сошествие в ад» (в Русском музее).
Вглядитесь хотя бы на первой в сцену, именуемую «Аллегорией пустыни».
«Псковская школа живописи — открытие советских ученых. В старых сводных
трудах по истории русского искусства она обычно отсутствует. Лишь после расчистки
ряда псковских фресок и икон XII—XV веков появилась возможность определить
ее стилистические черты, остававшиеся до того совершенно неясными»
(В. Н. Лазарев).
И это не исключение. Ведь всего лишь несколько лет назад удалось благодаря
кропотливым исследованиям выделить в отдельную школу древнюю тверскую живопись.
Да и, кроме того, Ростов, Ярославль, Рязань, Вологда, Смоленск, Полоцк и другие
русские города были крупными центрами самобытного художественного творчества,
изучение которого ныне в полном разгаре.
|