|
|
Семнадцатый век. Декоративное и прикладное искусство
|
И миниатюры, и графика процветали в XVII в., но, пожалуй, наибольшего
развития достигло декоративное и прикладное искусство.
Изделия «золотых дел мастеров» составляют основную массу сокровищ
Оружейной палаты Московского Кремля. Оклады, напрестольные кресты, цаты,
потиры, братины, чарки, ковши, стопы, серьги самой тонкой работы сверкают там
в витринах, унося нас в мир сказочной роскоши, царской, церковной или боярской.
Но это не все, ибо в Оружейной палате, когда она была не музеем, а «кузницей»
прикладного искусства, работали и «литцы» (литейщики), и чеканщики,
и басменщики, и «сканных и черневых дел мастера». Искусство эмали
особенно обогатилось в XVII в. благодаря широчайшему распространению расписной
или живописной эмали. Но и это не все. Не перечислить всех видов искусства,
творимого для украшения, что подарил нам этот век. Белокаменная резьба и изразцы;
декоративная резьба по дереву (роскошные иконостасы и «напрестольные сени»,
решетчатые двери, золоченые клиросы); слесарное мастерство (так называемая золотая
решетка кремлевского Теремного дворца являет нам сплошное кружево спиралевидных
завитков с ромбами, цветами, диковинными чудовищами и скоморошьими головами);
шитье, в которое в изобилии, дотоле невиданном и уже чрезмерном, вводятся золото,
жемчуг, драгоценные камни.
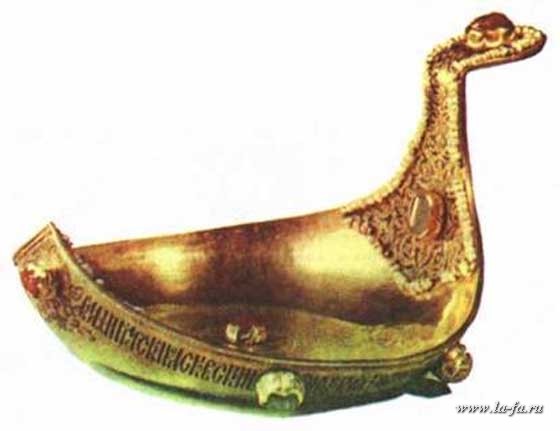
Золотой ковш царя Михаила Федоровича. 1624 г.
Украшательское излишество — вот, пожалуй, основной грех декоративного и прикладного
искусства XVII в. И потому, несмотря на богатейшую фантазию, проявляемую мастерами,
и на виртуозность их техники, XVII век не может быть признан веком высшего расцвета
декоративного и прикладного искусства. В предыдущем веке орнамент строго
выполнял свою функцию: стелясь по сосуду или кресту, орнамент не только следовал
структуре (тектонике) предмета, но выявлял ее еще полнее и ярче. В XVII в. орнамент
стал самоцелью. Предмет, произвольно покрываемый эмалью, драгоценными камнями
или изображениями, служил мастеру всего лишь предлогом для орнаментального расточительства.
В результате получались изделия часто замечательные по работе, богато отделанные,
что называется «не жалея средств», но внутренне неоправданные
и потому художественно несовершенные.
И все же лучшие достижения народного творчества живут и в самых роскошных
изделиях того времени. Золотой ковш царя Михаила Федоровича (в Оружейной палате)
украшен драгоценными камнями, жемчугом, чернью, но форма его, найденная задолго
до XVII в., та же, что и у деревянных крестьянских ковшей.
Увы, очень мало сохранилось деревянных изделий, созданных тогда народными
мастерами для деревенского обихода. Тем драгоценнее дошедшие до нас ковши
и скобкари от самых крохотных, умещающихся на ладони, до огромных, сработанных
из корневищ. В них радуют конструктивная ясность, спокойное благородство
формы и ее целесообразность.
Заря XVIII века. По словам Пушкина, «Россия вошла в Европу, как спущенный
корабль, при стуке топора и при громе пушек». Наступила новая эра
нашей истории, отмеченная и новым искусством. Что же дало этому новому искусству
искусство предшествовавшей эры?
На этот вопрос убедительно отвечает М. В. Алпатов в следующих строках,
которыми мы и закончим раздел о великом художественном наследии Древней
Руси: «Это был переворот, равного которому не пережила культура ни одной
другой страны Европы. Русские люди смело преодолели все трудности и вступили
на новый путь. Но это не значит, что в процессе ломки старого погиб весь опыт
древнерусского творчества. Его традиции сохранились и позднее. И это сказалось
не в том, что отдельные художники нового времени следовали древнерусским
мастерам и заимствовали у них отдельные мотивы и формы. Подлинная связь с традицией
оказалась полнее всего в тех случаях, когда русские художники решали новые задачи,
поставленные новыми историческими условия-ми, но опирались при этом на всю совокупность
художественного опыта Древней Руси. Истинными наследниками и продолжателями
дела древнерусских мастеров были не стилизаторы, создатели «ложнорусского
стиля» в архитектуре или церковных росписях XIX века, но такие творцы
архитектурных форм, как Баженов и Захаров, такие живописцы, как Александр
Иванов и Суриков».
|