|
|
Византийская художественная система. Третий расцвет.
|
«Случилось так,— пишет византийский историк,— что когда Константинополь
был взят латинянами, держава ромеев, как грузовое судно, подхваченное злыми
ветрами и волнами, раскололась на множество мелких частей...»
То были ветры и волны феодального раздробления, расшатавшие еще до нашествия
латинян-крестоносцев, казалось бы, незыблемые основы самого централизованного
тогдашнего государства. Но когда империя распалась под их напором, а в
ее столице воцарился чужеродный монарх, исповедующий отвергаемую народом
латинскую веру, стремление к единству вновь окрепло в греческом мире, всколыхнуло
патриотизм и гордость ромеев. В 1261 г. латиняне были изгнаны из Константинополя,
и, как птица Феникс, империя воскресла из пепла. Совсем куцая — по сравнению
с той державой, что мечтала владычествовать над миром, но более чем когда-либо
исполненная сознания своей былой славы, в которой она видела залог
всего дальнейшего своего бытия.
«Весь ромейский народ,— пишет свидетель освобождения Константинополя,—
находился... тогда в великом удовольствии, веселии и несказанной радости».
Третий и последний расцвет византийского искусства принято называть
Палеологовским — по имени возглавлявшей тогда империю династии.
Ликование по случаю восстановления империи и страстное желание поверить в
ее жизнеспособность — вот что характерно для настроения греков этой поры.
Возвращение к живительным истокам, то есть к античности, воодушевляло их
искусство.
В самом начале XIV в. это искусство создало шедевры мирового значения:
мозаики и фрески церкви монастыря Хора (турецкое название: Кахриэ-Джами)
в Константинополе.
Феодор Метохит был важным сановником, ученым, писателем, выдающимся
представителем неоэллинизма. Но все это, вероятно, не уберегло бы его имени
от забвения. Этот утонченный и высокообразованный византиец (современники
называли его «Олимпом мудрости» и «Живой библиотекой»)
заслужил себе долговечную славу «сияющими неописуемой красотой блестящими
камешками» — так он сам в поэтическом описании монастырского храма
Хора отозвался о знаменитых ныне мозаиках, как и все убранство храма, выполненных
по его заказу и, очевидно, по его вкусу.
Красота мозаик Кахриэ-Джами, которым ныне посвящена обширнейшая искусствоведческая
литература, стала всеобщим достоянием лишь в начале нашего века, когда эти шедевры
были опубликованы Русским археологическим институтом в Константинополе.

Путь в Вифлием. Мозаика церкви моностыря Хора (Кахриэ-Джами) в Константинополе. Начало ХIV в.
Чем же отличаются от созданных ранее мозаики Кахриэ-Джами, равно как и соседствующие
с ними фрески, написанные в том же стиле? Мы глядим на них с восхищенным удивлением.
Все вокруг «задвигалось» в новом развернутом повествовании
византийской живописи нового легендарно-исторического жанра. Фигуры уже не прямолинейны,
не стоят лицом к зрителю, а поворачиваются друг к другу. Уже не только
в позе, но и в движениях они перекликаются меж собой в унисон с широко
развевающимися одеждами. И все это среди фантастических архитектурных сооружений,
выступающих в уже слегка углубленном пространстве. Общий ритм композиции поражает
удивительным единством, волнующей одухотворенностью, со-четающейся с чисто эллинской
живостью и тончайшей поэтической настроенностью. Духом античности проникнут
и пейзаж с его эллинистическими декоративными деталями (как, например,
одиноко стоящие деревья). Такие сцены, как «Упреки Иосифа Марии»
(едва ли не самая замечательная по настроению, по эмоциональной передаче смущения
и скорби), «Раздача пурпура израильским девам», «Исцеление
больных», «Путь в Вифлеем» (тоже несравненный шедевр)
и еще многие другие по-новому, в некоей чудесной текучести, плавно повествуют
о жизни Марии и Христа. В них уже та предельная ясность, та архитектурная
стройность композиции, исполненной глубокого внутреннего содержания, что
два века спустя станет счастливым уделом Рафаэля! А как нежны и звучны краски
после недавней расчистки мозаик!

Икона "Двенадцать апостолов". Начало XIV в. Москва, музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Высказывалось суждение, что Византия предвосхитила в этих творениях искусства
итальянское Возрождение или Ренессанс. Но мысль, что это лишь порог Ренессанса,
за который Византии не суждено было переступить, кажется вернее. В изображенных
здесь сценах человек не раскрепощен, он не хозяин своей судьбы. Точно так же
и в жизни не только общественной, но и частной византиец той поры оставался
скованным непререкаемым авторитетом церкви и государства. Все в этой живописи
строго подчинено основной декоративной схеме, в которой частному не дано проявиться
самостоятельно. И все условно — как ритмические движения, так и сказочные архи-тектурные
фантазии. Портик, или балдахин, показанный под одним углом (но не так, как мы
бы увидели его на расстоянии, а в обратной перспективе, сразу обозримый
со стороны, сверху и даже изнутри), соседствует с другим, повернутым под противоположным
углом, в угоду общему композиционному ритму. Нет, это еще не реализм Ренессанса,
а все та же средневековая живопись, лишь согретая новым огнем.
Великолепный образец этого искусства — икона «Двенадцать апостолов»,
хранящаяся в московском Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Все фигуры изобра-жены как бы в действии. Головы — в разных поворотах, наклонах:
нервный и в то же время единый, законченный ритм. И тоже ритм беспокойный и
все себе подчиняющий — во множестве изображений, вышитых на торжественных
облачениях («саккосах») митрополита Фотия (в Оружейной палате Московского
Кремля).
Но этот взлет византийского искусства был недолговечен, как и подъем византийской
государственности при Палеологах. Жизненные силы Византии были уже подорваны.
В искусстве происходит явление, в какой-то степени перекликающееся с былым
движением иконоборцев. Живость религиозных изображений показалась соблазнительной,
и на закате империи жесткий, строго плоскостной стиль восторжествовал в
монументальной живописи и иконе.
Грозный враг наседал на Византию. Турецкая держава расширялась, все вокруг
подчиняя огнем и мечом. Напрасно византийские императоры ездили на Запад,
прося помощи против «неверных». Папа и другие европейские государи
ограничивались обещаниями: они относились враждебно к греческой вере, и
ее унижение, пусть даже мусульманами, вызывало у них злорадство. Лишившееся
почти всех своих владений, утомленное былым величием, вконец одряхлевшее византийское
государство было предоставлено собственной судьбе.
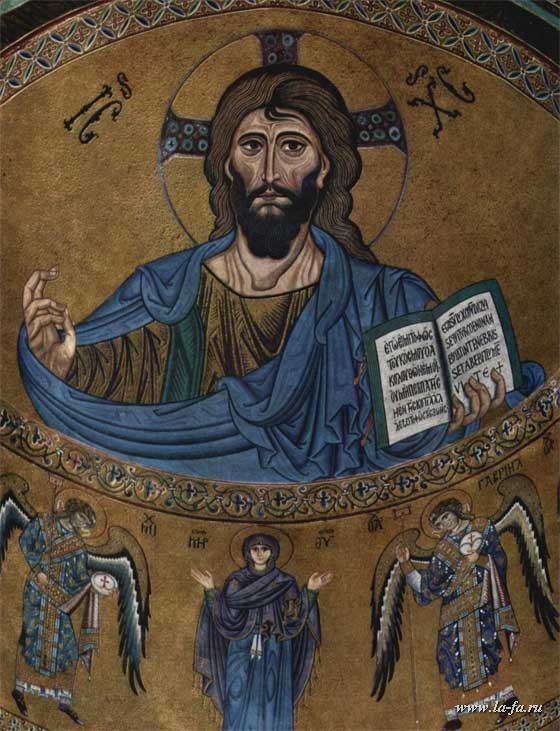
Христос Пантократор. Мозаика абсиды сабора в Чефалу. 1148 г.
В 1453 г. турецкий султан Мехмед II Завоеватель осадил во главе огромного
войска Константинополь. Греки под водительством императора Константина
XI сопротивлялись геройски. Но силы были слишком неравны (200 000 человек у
турок, 14 000 у греков). 29 мая город был взят приступом, и защитики его перебиты.
По свидетельству современника, «в некоторых местах, вследствие множества
трупов, совершенно не было видно земли». Долго по приказу Мехмеди искали
труп Константина: его наконец обнаружили среди груды убитых, опознав по
пурпурным сапожкам с двуглавыми золотыми орлами, которые носили только византийские
императоры — наследники римских цезарей. Султан повелел отрубить ему голову
и выставить се на высокой колонне я центре завоеванной столицы ромеев. Храм
св. Софии, куда согласно легенде Мехмед въехал на белом коне, поразил его своей
красотой и был по его же приказу превращен в мечеть.
Византии не стало. Не стало последнего очага греко-римской и восточно-эллинистической
цивилизации. Но не померк факел, пронесенный через века византийским искусством.
Еще до падения Константинополя его подхватила Древняя Русь.
|